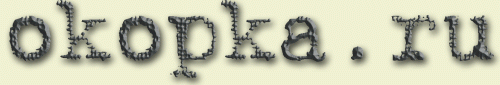
|
||
Хроники подлого времени
(отрывок из повести)
Хорошо, мы будем хранить тебя вечно.
|
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |