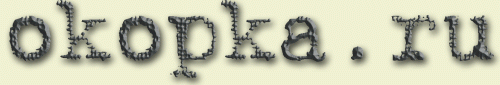
|
||
Это мой дебютный роман. Писался чуть больше года. За это время шквал событий изменил мир, но смыслы, проговоренные в романе, как мне кажется, не потеряли своей актуальности. Это текст о русском человеке, о Родине, о том, во что превратилась страна за последние двадцать пять лет и о пронзительной любви к этой Богом нам данной земле. | ||
Я - русский
(роман)
...Так что нам делать, как нам петь, как не ради пустой руки?
А если нам не петь, то сгореть в пустоте;
А петь и не допеть -- то за мной придут орлики;
С белыми глазами, да по мутной воде.
Только пусть они идут -- я и сам птица черная,
Смотри, мне некуда бежать: еще метр -- и льды;
Так я прикрою вас, а вы меня, волки да вороны,
Чтобы кто-нибудь дошел до чистой звезды...
Борис Гребенщиков "Волки и вороны"
Пролог
Слово об олигархах
Слово о холуях
3. Праздник к нам приходит.